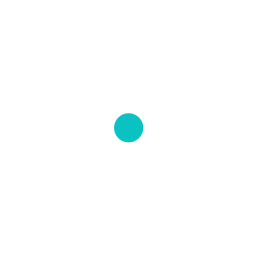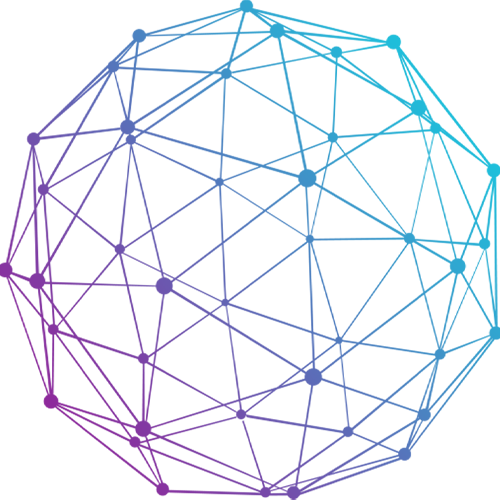Отечественная историография Петра I и его эпохи начинает вглядываться в свое собственное прошлое уже в середине позапрошлого столетия. Начало серьезной историографической разработки темы связано с именем Устрялова и его 6-томным трудом «История царствования Петра Великого». Вопросам изучения Петра и его эпохи в значительной мере было посвящено «Введение» к первому тому, увидевшему свет в 1858 г.
В конце 1860-х - начале 1870-х гг. два важных события в научной и общественнокультурной жизни пореформенной России способствовали развороту научной мысли к истории изучения Петра и его эпохи: завершение СМ. Соловьевым публикации томов своей «Истории России с древнейших времен», посвященных царствованию Петра I, и наступивший вскоре 200-летний юбилей царя-реформатора. И в «Истории России...», и в «Публичных чтениях о Петре Великом» (1872 г.), и в речи, произнесенной в торжественном собрании Московского университета 30 мая 1872 г., Соловьев неизменно обращался к истории изучения Петра и его эпохи, дополняя и уточняя характеристику предшественников новыми красками.
Именно в конце 1860-х — начале 1870-х гг., благодаря историографическим экскурсам Соловьева и специальным статьям К.Н. Бестужева-Рюмина и О.Ф. Миллера, изучение Петра и его эпохи дополняется серьезной «рефлексией рефлексии» о царереформаторе, сама история восприятия и осмысления петровских преобразований становится одним из набирающих силу направлений в истории общественного сознания и исторической науки в России. Ужа в этих историографических обзорах высказывались мысли о наиболее важных рубежах, которыми было отмечено становление историографии темы, делались первоначальные наметки для се периодизации. Определенное внимание уделялось воздействию обгцестленно-политических факторов па развитие историографического процесса, была показана высокая степень его включенности в общеевропейский политико-культурный контекст (распространение просветительской философии, французская революция, наполеоновские войны, рост национального самосознания европейских народов). R качестве характерных для изучаемого историографического процесса было указано несколько устойчивых черт. Во-первых, объединявшее всех писавших о Петре и его реформах (вплоть до 1860-х гг.) представление о петровской эпохе как о времени резкого перелома, разрыва преемственности в истории страны, объясняемого исключительными качествами самого царя. Во-вторых, ограниченность сферы влияния собственно научных представлений о Петре и его эпохе и превращение данного сюжета в предмет широких и острых общественных дискуссий, участникам которых часто недостает историзма.
В конце XIX — начале XX в. разработка истории восприятия и изучения петровских преобразований в России была продолжена Е.Ф. Шмурло и А.А. Кизеветтерсм в специальных работах, В.О. Ключевским и С-Ф. Платоновым в рамках общих лекционных курсов по русской истории.
Заслугой Шмурло и Кизеветтсрам следуег признать, во-первых, расширение рамок историографического анализа за счет обращения к пограничным сюжетам, каковыми были, народные представления о Петре и его эпохе, а также различные отголоски в ранней литературе по «петровскому» вопросу социальных изменений и конфликтов внутри правящей российской элиты. Во-вторых, этим авторам было свойственно более пристальное внимание к екатерининской эпохе как времени зарождения научно-исторического анализа темы. Кизеветтеру к тому же удалось проследить развитие этого процесса в спорах славянофилов и западников, показать их роль в осмыслении значения петровских преобразований.
В начале XX в. в печатных изданиях лекционных курсов Ключевского и Платонова были сформулированы два основных подхода к русской историографии Петра I и его преобразований. С одной стороны, оба автора признавали исключительное значение в развитии историографического процесса трудов Соловьева, с другой - видение ими достигнутых результатов и перспектив в научной разработке темы не во всем совпадало. Если Ключевский сформулировал больше вопросов, па которые, но его мнению, нельзя было найти ответов, оставаясь в русле соловьевской традиции , то для Платонова, верность ей становилась критерием научности в понимании Петра I и его эпохи
Если русские историки XIX - начала XX в. рассматривали проблематику петровских преобразований как центральную и ключевую в истории России, то после 1917 г. эти проблемы несколько отошли на второй план, хотя и в советской историографии петровская эпоха была признана одной из важнейших в истории страны. Соответственно и история изучения петровских реформ не выпадала из поля зрения советских исследователей. В советской историографии серьезно разрабатывались главным образом социальноэкономические проблемы петровской эпохи, хотя уже послевоенная дискуссия о генезисе капитализма в России показала, что анализ этого вопроса затрудняется из-за недостаточного внимания историков к значению и роли «надстройки»
Сравнительно обширный очерк эволюции взглядов на Петра I и его деятельность в русской и отчасти в советской исторической литературе, представил в 1943 г. Б.И. Сыромятников в первой главе своей монографии «"Регулярное" государство Петра Первого и его идеология»
Но особую ценность представляет обзор историографического материала по теме петровских преобразований более чем за сто лет - с середины XIX в. до второй половины 70-х гг. XX в., сделанный датским историком X. Баггером в книге, впервые изданной в 1979 г. в Копенгагене. В 1985 г. эта книга увидела свет в переводе па русский язык. Не только сам факт перевода книги Баггера на русский язык, но и особенности этого издания, осуществленного при участии трех отечественных специалистов по эпохе Петра: В.И. Буганова (вступительная статья и общая редакция), Л.Н. Медушсвского (постраничные примечания), В.Е. Возгрина (перевод и послесловие) позволяют нам рассматривать русскую версию книги Баггера в контексте развития отечественной историографии.
Большое место в работе датского исследователя занял анализ трудов дореволюционных российских историков. Ряд ценных замечаний историографического характера к работе самого Баггера сделали Буганов и Медушевский. В частности, Буганов4 ' отметил, что Баггер фактически прошел мимо «досоловьевского» этапа в истории становления научных знаний о Петре и его эпохе, не включив в свой обзор обширной русской (как и зарубежной) литературы XVIII — первой половины XIX в.
Следует также сказать, что Багер, поставив во главу угла задачу систематизации различных мнений, высказанных в науке по «петровскому» вопросу более чем за сто лет, вообще не стремился к их исторически последовательному воспроизведению и анализу с точки зрения конкретных обстоятельств места и времени их появления, распространения и т.п. У его работы была иная цель: раскрыть перед широким кругом заинтересованных читателей весь «спектр» подходов и мнений, так сказать, «по горизонтали», не углубляясь в историю их возникновения.
На современном этапе развития науки некоторые общие итоги изучения темы подведены в монографиях Н.И. Павленко, Е.В. Анисимова, А.Б. Каменского, СИ. Реснянского. Труды Павленко внесли наиболее заметный вклад в освещение личности и деятельности Петра I в последней трети XX в. Тем весомее выглядят и его высказывания по вопросам, связанным с теми или иными трактовками проблемы как в прошлом, так и в наши дни. В частности, Павленко обратил внимание на то, что позитивная оценка преобразований первой четверти XVIII в. и признание «колоссальной роли» в них самого Петра I, отнюдь не мешали «многим поколениям историков» видеть негативные черты его личности и деятельности. На многократно возникающий в истории отечественной исторической мысли вопрос, существовала ли в то время альтернатива развивавшимся вширь и вглубь крепостническим порядкам, Павленко дает отрицательный ответ, поскольку в ту пору кризисные явления в крепостном хозяйстве еще не проявлялись, а ростки капитализма были очень слабыми и едва заметными. Вместе с тем колоссальная роль государства в истории России, как пишет Павленко, вовсе не изобретение Петра, а отличительная особенность развития страны, обусловленная, в конечном счете, борьбой за выживание и стремлением ускоренными темпами преодолеть отставание от других держав. Успех в этой борьбе, по мнению историка, в начале XVIII в. могли обеспечить только крепостничество, только борьба с варварством варварскими методами
Податной реформе Петра I, а также общей характеристике его деятельности и другим аспектам времени преобразований посвящены работы Анисимова. Анализируя петровские реформы в области государственного управления, автор представил и краткий обзор историографии данного вопроса
Проблемам российской модернизации XVIII в. посвятил свои исследования Каменский. Используя понятийно-терминологический инструментарий современной социологии, историк рассмотрел законодательные акты, изданные в России от Петра I до Павла I, а, кроме того, провел анализ менталитета и социальной структуры российского общества на каждом из этапов его реформирования. В своих работах, содержащих историографическую полемику, Каменский ставит под вопрос представление о том, что российская история в XVIII в. развивалась по известному алгоритму «реформы - контрреформы». Наоборот, он доказывает, что это обманчивое представление сложилось вследствие того, что наиболее изученными в историографии оказались лишь периоды интенсивной реформаторской деятельности государственной власти.
Проблема общественного восприятия церковной реформы Петра I, взаимоотношений Церкви и государства в истории России стала предметом специальных исследований Ресняиского. Центральный вопрос, которым задастся автор, формулируется весьма остро и злободневно: была ли церковная реформа Петра симптомом прорыва конфессиональной замкнутости, своеобразным «духовным» окном в Европу, откуда хлынул на Россию секуляризированный комплекс протестантских идей, породив коррозию модели национального самосознания
По-своему закономерно, что современный (постсоветский) этап развития знаний о Петре I и его эпохе отмечен и новым витком широкого интереса к многоликому петровскому образу, и к различным аспектам национальной традиции его осмысления
Разработкой различных аспектов истории восприятия и изучения Петра I и его эпохи В публицистике и историографии XVHI в. занимаются в настоящее время ученые Саратовского университета: С.А. Мезин и Е.В. Ермасов. Наибольших результатов в этом плане пога достиг С.А. Мезин. Еще в 1980-е гг. впервые после дореволюционных работ Шмурло обратившись к специальному анализу истории восприятия и изучения Петра I и его эпохи в России XVIII в., он плодотворно разрабатывает эту проблематику до сих пор
Большую роль в осмыслении исторического значения Петра I в XVIII в. сыграли сочинения французских просветителей и историков, оказавшие влияние и на развитие русской исторической мысли. Эта тема легла в основу докторской диссертации Мезина, а также цикла опубликованных им работ
Определенные результаты в изучении интересующей нас темы получепы в исследованиях, посвященных судьбам отдельных направлений в исторической науке, или истории разработки крупных проблем отечественной истории. В центре новейшей монографии Р.А. Киреевой - историческая концепция К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина, лидеров государственной школы — наиболее значимого направления в исторической науке России середины XIX — начала XX вв. Если в советской исторической литературе оценка государственной школы была излишне политизированной, то Киреева пытается, прежде всего, воспроизвести аргументацию и логику самих ученых и рассматривает поставленные ими проблемы в контексте развития науки того времени. Среди этих проблем - «реформа Петра I в освещении К.Д. Кавелина». Весьма значим вывод Киреевой о том, что в оценке Казелиным Петра I «сошлись все главные составляющие» его исторической концепции: «идея органического развития (реформы Петра были подготовлены ходом исторического ралаашя предшествующей эпохи), идея государства и личности»